«Наши отцы и деды понимали, что без развития в настоящем, каким бы ужасным это настоящее ни было во время войны, успешного будущего у страны не будет», — говорит писатель, историк, главный редактор проекта «Россия — моя история» Александр Мясников.
На женских плечах
Виталий Цепляев, aif.ru: Александр Леонидович, объясните такой феномен: почти четыре года шла война, равной которой не знала история, и при этом наша страна не только сражалась, но и строила, творила, созидала для мирной жизни. К примеру, даже когда немцы в декабре 1941-го стояли под Москвой, в столице продолжили прокладывать третью очередь метро, а в 1943-м её запустили. В апреле 1942-го открылся Московский монетный двор… Чем это можно объяснить — пониманием, что нельзя жить только войной, что нужно думать и о том, что будет после неё?

Александр Мясников: Безусловно. Если мы посмотрим, сколько всего создали за время войны в интересах обычной гражданской жизни, то увидим потрясающие цифры. В 1941–1945 годах в СССР построили или восстановили 8400 школ, больниц и поликлиник. По нарастающей шло строительство жилья. За годы войны было создано 3500 металлургических, трубопрокатных, машиностроительных заводов… В том числе Ульяновский и Уральский автозаводы, Владимирский и Алтайский тракторные и т. д.

За этим стоял героический труд, причём в основном женский. Почти всё, что было построено в годы войны, построено руками женщин, которые заменили ушедших на фронт мужчин. В том же Метрострое они составляли более 70% работников. Тысячи километров железных дорог — в том числе к новым заводам — прокладывали женщины. Они же восстанавливали шахты Донбасса, поднимали сельское хозяйство, занимались лесопосадками…
— Без заводов, шахт и дорог экономику было не поднять. Но усилия тратили не только на это. В июле 1941-го немецкая бомба разрушила здание Вахтанговского театра в Москве. И уже осенью театр начали восстанавливать. Казалось бы, враг на подступах к городу, время ли думать о высоком? Однако ведь думали. Стремились сохранить в себе человеческое даже в нечеловеческих условиях!

— Музы не должны были молчать даже во время войны — так считали в те дни. Вдумайтесь: за четыре года Великой Отечественной было проведено 1,4 миллиона концертов. Сотни творческих бригад — от артистов цирка до классических музыкантов — колесили по фронтам. В 1942-м в блокадном Ленинграде основали будущий драмтеатр им. Комиссаржевской. Эвакуированные на Урал и в Сибирь столичные театры тоже не просто пережидали военное лихолетье — продолжали делать постановки, создавали на новом месте балетные и драматические школы, которые по сей день остаются лучшими в стране.

— Искусство, конечно, поднимало дух и бойцов, и тружеников тыла. Но вот когда в 1943-м при Совнаркоме создавали Комитет по делам архитектуры или когда в столице в 1944-м начинали подготовку к празднованию 800-летия Москвы — это вроде бы прямого отношения к обороне не имело. Но, видимо, имело отношение к чему-то другому, не менее важному?
— Конечно. Так же как и развитие сферы образования. Даже в блокадном Ленинграде работали вузы, школы, ясли. В 1943‑м в СССР создаётся Академия педагогических наук. В школах вводится новый предмет — логика. В 1944 году возвращается пятибалльная система оценок, опрометчиво отменённая после революции. Возвращается аттестат зрелости после 10-го класса. Для детей, потерявших родителей, создаётся система суворовских училищ. Всем этим мы пользуемся до сих пор. Казалось бы, подходящее время было для образовательных реформ? Да, подходящее. Нужно было исправлять перекосы первых постреволюционных лет, выводить отечественное образование на новую траекторию, потому что без этого не могло быть развития. А о развитии не забывали даже в самые трудные годы.
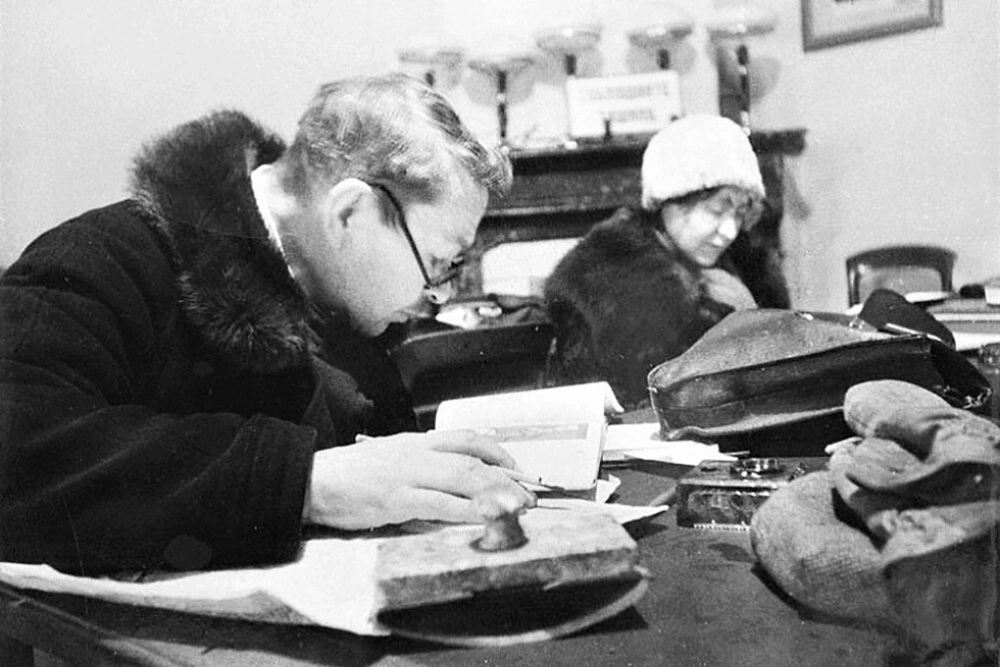
Заботы о дне грядущем
— Нарком просвещения Потёмкин в декабре 1942-го вернул в обязательное употребление в школах букву «Ё». Ё-моё, скажет кто-то, уж для таких-то реформ точно был не самый подходящий момент!
— Это решение тоже было из серии исправления перегибов. Букву «Ё» продвигал ещё Карамзин в конце XVIII века. Но после 1917 года её употребление сочли необязательным. И во время войны просто решили вернуться к традиционным ценностям, как сейчас говорят. Как делали это и во многих других аспектах.
Но бурно развивалось не только образование. Советские учёные в годы войны сделали множество открытий, далеко не всегда имевших отношение к обороне. Начало атомных разработок было положено именно в военные годы, и это делалось не только ради создания бомбы, но и ради мирного атома. В 1942 году в СССР группа микробиологов во главе с Зинаидой Ермольевой создала отечественный аналог пенициллина — крустозин. Позже в Институте малярии и медицинской паразитологии синтезировали антибиотик грамицидин С, который по эффективности оказался лучше американского. В общей сложности в годы войны были изобретены и запущены в производство десятки медпрепаратов. В том же 1942‑м у нас сделали обязательными прививки от туберкулёза для новорождённых, а через год приняли план борьбы с этой болезнью, предусматривавший развитие сети больниц и санаториев.
— Вспоминается и история о том, как сотрудники Всесоюзного института растениеводства в блокадном Ленинграде сохраняли крупнейшую в мире коллекцию семян, хотя сами валились с ног от голода…
— Да, примеров героического служения хватало. Солдаты Красной армии освобождали страну от захватчиков, а учёные делали свою работу, подчас прямо не связанную с помощью фронту.
Поразительный факт: в годы войны, например, не был закрыт ни один заповедник. Больше того, создали два новых: Бадхызский (в 1941‑м) и «Предуралье» (в 1943‑м).

— Люди собирались жить на своей земле дальше и понимали, что никто за них эту землю не обустроит?
— Именно так. Возможно, всё дело в том, что для людей тогда было свято понятие государственности. Причём оно было абсолютно естественным, не требовавшим никакого «патриотического воспитания». Государственность лежала в основе всего. А ещё наши отцы и деды понимали, что без развития в настоящем, каким бы ужасным это настоящее ни было во время войны, успешного будущего у страны не будет.




